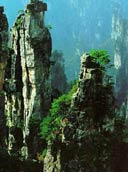

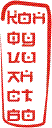
Социальный порядок по Конфуцию
Конфуцианское воспитание и образование
Система экзаменов и сословие шэньши
Конфуцианство - регулятор жизни Китая
Отсюда - постоянная тенденция к росту семьи. Большая нерасчлененная семья (та семья, которую имел в виду Конфуций, когда он сравнивал ее с государством) существовала и до Конфуция, но по преимуществу среди знати. Конфуцианство своим культом предков и сяо создало дополнительные стимулы для ее небывалого расцвета: при наличии хотя бы мало-мальски благоприятных экономических возможностей стремление к совместному проживанию близких родственников становилось решающим импульсом и резко преобладало над сепаратистскими тенденциями. В результате большие семьи, включавшие в себя несколько жен и наложниц главы семьи, немалое число женатых сыновей, множество внуков и иных родственников и домочадцев, стали весьма распространенным явлением на протяжении всей истории Китая (образ жизни одной из них хорошо описан в классическом китайском романе "Сон в красном тереме"). Такие семьи делились обычно лишь после смерти отца, а то и обоих родителей. Старший сын занимал место главы семьи и получал большую долю наследства, в том числе и дом с храмом предков, тогда как остальная часть общего имущества делилась поровну между всеми остальными сыновьями. Все новые семьи, основанные младшими братьями (а каждый из них становился главой своего, бокового по отношению к главному культа предков), в течение длительного времени продолжали находиться в зависимости от старшего брата, являвшегося теперь главой основной линии культа, общего для всего клана. Возникал мощный разветвленный клан сородичей, крепко державшихся друг за друга и населявших порой целую деревню, особенно на юге страны, где кланы бывали наиболее сильны.
Разумеется, в рамках такого клана в принципе действовали все те же социально-экономические закономерности, что и в масштабах общества в целом. Одни семьи за десятилетия становились беднее и приходили в упадок, другие, напротив, могли разбогатеть, причем в этом случае к ним начинали тяготеть обедневшие сородичи и их дом становился центром клана. Бедные родственники за мелкие подачки помогали своему разбогатевшему сородичу, а богатый хозяин клана умело использовал семейно-клановые традиции для беззастенчивой эксплуатации их труда. Возникала семейно-клановая корпорация, в рамках которой верхи и низы были крепко спаяны как родством, так и традициями, нормами клановой взаимопомощи, основанными все на том же культе предков и сяо.
Сила и авторитет этих корпораций признавались властями, охотно предоставлявшими им решение различных мелких тяжб и внутренних деревенских дел. И сами кланы ревниво следили за сохранением за ними этих прав. Символом их кланового единства был родовой храм предков с могильными и храмовыми землями, отчуждать которые считалось недопустимым. В эти храмы в дни торжественных праздников собирались все члены клана, подчас сотни сородичей. После ритуальной части на таких собраниях решались и деловые вопросы. Принято было выносить на суд родственников все заботы, как гражданские и имущественные, так и сугубо интимные: не было ничего святого, своего, личного, чего не должны были бы знать семья и клан.
И в семье, и в обществе в целом любой, в том числе влиятельный глава семьи, важный чиновник императора, всегда представлял собой прежде всего социальную единицу, вписанную в строгие рамки конфуцианских традиций, выйти за пределы которых было невозможно:
это означало бы "потерять лицо", а потеря лица для китайца равносильна гражданской смерти. И если сынки богатых родителей в молодости могли позволить себе протранжирить толику отцовских денег в злачных местах больших городов, то это бывало лишь эпизодом в их жизни, не более. В принципе отклонения от нормы не допускались, и никакой экстравагантности, оригинальности ума или внешнего облика китайское конфуцианское общество не поощряло: строгие нормы культа предков и соответствующего воспитания подавляли эгоистические наклонности с детства. Человек с первых лет жизни привыкал к тому, что личное, эмоциональное, свое на шкале ценностей несоизмеримо с общим, принятым, рационально обусловленным и обязательным для всех.
Рассмотренные выше аспекты теории и практики конфуцианства не исчерпывают всего того, что включало в себя это учение. Но именно эти важнейшие принципы социальной политики и этики были главным в конфуцианстве, им было суждено сыграть решающую роль в судьбах Китая.